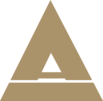|
Интервью
Татьяна САВИЧ, фото Елены КАЗЛОВСКОЙ
«Республиканская строительная газета»
Галина Левина:
«Памяти не бывает много или мало…»
Галина Левина — человек в Беларуси известный. Действующий архитектор, научный руководитель проекта реконструкции Лошицкого усадебного дома (до 2007 г.), автор первого в республике мемориального комплекса — аллеи Праведников Народов Мира в Бобруйске, здания первой Синагоги в современной Беларуси, автор и соавтор уникальных объектов архитектурного и монументального искусства, лауреат Государственной премии. Ее профессионализм подтвержден появлением в республике десятков объектов, удостоенных высоких наград. Сегодня она с гордостью говорит о том, что ее учителем в профессии и жизни был отец, Леонид Левин, заслуженный архитектор Беларуси, лауреат Ленинской и Государственных премий. Галина Леонидовна очень много делает для сохранения памяти отца, выступает с лекциями, печатается в СМИ, продолжает вести дела в творческой мастерской. Ей удалось создать ряд действующих международных проектов памяти узников минских и белорусских гетто (1941–1944), с успехом прошли и ее персональные художественные выставки «Из Мира — в Мир», «Город написан шагами» и др.
Однако, беседуя с Галиной Леонидовной, невозможно записать интервью исключительно о ее профессиональном пути. В каждом предложении звучит имя Леонида Менделевича. И не удивительно: дочь и отец были как единое целое, понимали друг друга без слов. «Одно дыханье на двоих» — так характеризует она их творческий дуэт.
— Галина Леонидовна, а каков был Ваш путь в архитектуру?
— Я росла в архитектурной семье. Мама — архитектор. Папа — архитектор. Конечно, это не могло не повлиять на мой профессиональный выбор. Но пойти по их стопам было исключительно моим решением. Родители предоставили возможность самостоятельно определиться с вопросом «кем быть?». Было непросто, ведь в школьные годы интересовалась многим. Но решающую роль в принятии решения сыграла победа на международном конкурсе «Город будущего». Когда училась в девятом классе, в Штутгарте объявили конкурс на лучший проект. Председателем жюри был известный архитектор Фрай Пауль Отто. Мы с подружкой Юлей, занимаясь в детской студии при Союзе архитекторов, придумали проект в фантастическом стиле. Представьте себе, заняли второе место на конкурсе, который собрал 850 проектов со всего мира. Это обстоятельство и повлияло на решение стать архитектором. Важно было осознавать, что твои чувства и мысли приняты и, главное, услышаны. В коллаже из бумаги здания не стояли на местах, а летали, передвигались. Идея нашего смелого проекта состояла в том, что поверхность земли покрыта асфальтом и планету нужно освободить от бетонных покрытий, дать возможность природе раскрыться. Уже тогда я смотрела на работы других ребят и понимала насколько важно, то, что мне всегда говорил отец, — в основе проекта должна быть идея.
— Как Леонид Менделевич воспринял новость о том, что в семье будет еще один архитектор?
— С уважением… Десятый класс проходил в усиленной работе по рисунку и экзаменам. Я часто бывала в мастерской отца на Круглой, в Институте «Минскпроект», где он вел важные градостроительные, конкурсные проекты. Отец не учил меня профессии словами, я все впитывала, глядя на его отношение к работе. Он творил, я смотрела и училась. Это очень важно в отношении учителя и ученика: чему ты учишься, а не только то, чему тебя учат. Я запоминала все до мелочей, но, как оказалось, таких важных, как точить карандаши, натирать китайскую тушь для отмывок, как садиться за кульман и натягивать планшет. Домашними вечерами обсуждались проекты, конкурсы, принимались решения. Постепенно и неосознанно вливалась в творческий ритм отца. Такова была наша жизнь.
А еще нас объединяла любовь к рисунку. С детства рисовали вместе, а уже студенткой я каждые выходные ранним утром уходила в Старый город
с мольбертом. Когда училась в институте, у меня уже были небольшие задачи в мастерской: найти историческую информацию по зданиям, реставрации, уточнить факты. Распределилась я
в ОАО «Белреставрация». Было интересно работать с историко-культурными ценностями, заниматься реставрацией Лошицкого усадебно-паркового комплекса. Нравилось сочетание истории и современных приспособлений. Это своеобразная игра: исследовать памятник, «пощупать» его со специалистами, провести натурные и физико-химические исследования. Мне посчастливилось стать научным руководителем проекта реконструкции этого комплекса и быть им до 2007 года. Работая в «Белреставрации», также параллельно была задействована в мастерской отца. В то время велась интересная работа с голландскими архитекторами над проектом поселка для переселенцев из чернобыльской зоны. Мы ездили в Брагинский район, встречались с людьми, чтобы понимать, как нужно строить для них жилье. Это оптимистичный вдохновляющий период. Сложились определенные обстоятельства, и я перешла на работу в творческую мастерскую. Так, дело жизни моего отца стало и моим.
— Может, отец просто не хотел сбивать вас с пути. Ведь в одном из интервью ваша мама писала, что «никогда не агитировали ее (дочь) в архитекторы — не хотели, чтобы она повторяла наш образ жизни: мама на работе допоздна, папа — еще дольше, а дочь приходит к родителям, чтоб поцеловать их перед сном и сказать: «спокойной ночи». Она всегда была одна… Но в итоге тоже стала архитектором».
— Сохранилась уникальная переписка. Бывая в командировках, папа ежедневно мне присылал письма. Когда я училась в 10-м классе, написал, что размышляет, находясь вдали от меня, о моем будущем: «Признаюсь тебе, что как никогда я думаю о твоем будущем. Ведь так хочется, чтобы у тебя все сложилось хорошо. Хорошо — это не значит легко, но не так трудно, как у меня. Правда, я отлично понимаю, что не будь у меня таких трудностей, не было бы такого интереса к работе, не был бы я так счастлив…». Он понимал, с какими сложностями мне придется столкнуться уже на первых профессиональных ступеньках. Во времена, когда я поступала в институт, был негласный ценз «5 % на еврейские фамилии». Я усиленно готовилась, чтобы получить хорошие оценки. Отец в это время уже был лауреатом Ленинской премии. Это накладывало еще большую ответственность на меня. Выбирая профессию, четко понимала, какой путь меня ждет, как нелегко дается реализация задуманного. Мной всегда руководит осознание того, что я впитала очень много от талантливых и уважаемых профессионалов со всего мира. Высшей оценкой являлось мнение отца и тех людей, которым я творчески доверяю. Мы всегда видим свои недостатки. Внутренний критик не дремлет. И, конечно, для меня самый сложный и тревожный непосредственно сам рабочий процесс. Не можешь поставить точку. Ищешь. Исследуешь.
— Вы состоялись как архитектор. И это факт. А папа Вас критиковал?
— Его похвала всегда была высшей наградой для меня. Я понимала, если он скажет хорошо, то это не лесть и не попытка поддержать меня как начинающего архитектора, а действительно объективная оценка. Отец всегда был деликатен, уважал мнение людей. Если кто-то считал так, а он иначе, то это не было поводом для критики. Это вам могут подтвердить все, с кем он работал. Помню, как, еще в годы учебы доверил мне подписывать свои планшеты, организовывать выставку. Это для меня по умолчанию стало признанием. Даже сохранились записки, где папа мне писал задания, что надо сделать и как. Интересно сегодня их перечитывать и вспоминать то волнение. Важен и гендерный вопрос, который мог возникать по отношению к женщине-архитектору. В его поле взаимоотношений этого вопроса никогда не вставало. Все основывалось на уважении к творческому мышлению. Сейчас осознаю: его поддержка моих идей как архитектора во многом была определяющей и помогла выработать характер, чтобы не сомневаться в решениях, не давать выбить
себя из идеи.
— Легко ли быть архитектором, будучи дочерью известного зодчего. На мой взгляд, это большая ответственность, которая, к слову, накладывается, на всех детей известных родителей…
— Мы об этом никогда не думали. Существовали в своем творческом мире. Ребенком понимала, что отец известный творческий человек. Он не был высоким по должности чиновником. Леонид Левин обладал большим авторитетом в творчестве, который принимали и признавали. Бесценно то, что природой тебе дана возможность думать, осмысливать и воплощать свои идеи в жизнь. Поэтому ничто не должно мешать на пути ее реализации.
И конечно мы с отцом на одной эмоциональной волне. Для нас всегда важно было глубоко проникнуться в тему. К примеру, реконструкция и благоустройство центра Давид-Городка на Полесье. Казалось бы, рядовая задача: сделай пешеходные связи, мощение, площади. Но работа над проектом вдруг выросла в невероятное путешествие, знакомство с людьми городка, его самобытной историей. Получился уникальный реализованный проект, в который было вовлечено много профессионалов. За реконструкцию и памятник Давиду (скульптор А. Дранец) в Давид-Городке мы получили Государственную премию Республики Беларусь. У нас не может быть простых задач. Мы горели одной идеей. Как одно дыхание на двоих. Я понимала без слов и понимаю сейчас, что формализм и непрофессионализм недопустимы в творческой мастерской архитектора Леонида Левина.
— Галина Леонидовна, творческая мастерская на площади Победы в Минске известна едва ли не всем членам всех творческих союзов страны. Сегодня это, по сути, уникальный музей. Есть ли планы по сохранению этой территории?
— Мастерская существует с конца 60–х годов. Первоначально на этом месте располагалась котельная, а мастерская и вовсе не была предусмотрена проектом. Сегодня это творчески намоленное место, исторически важное для города и страны. Здесь создавались знаковые объекты мирового масштаба. Мемориальные комплексы: «Хатынь» в соавторстве с Ю. Градовым, В. Занковичем, скульптором С. Селихановым, «Яма», в г. п. Красный Берег Жлобинского района детям, погибшим в Великой Отечественной войне (на месте детского концлагеря) и от Чернобыльской катастрофы, «Проклятие фашизму», «Прорыв» около г. п. Ушачи, реконструкция Троицкого Предместья и проект «Верхнего Города» и другие важные работы. Здесь бывали легендарные личности: П. Машеров,
В. Король, М. Барщ, работали скульпторы А. Аникейчик. З. Азгур, А. Финский, а также известные художники, литераторы и многие другие.
В мастерской проходило множество различных художественно-экспертных советов по монументальному и монументально-декоративному искусству. Это знаковое место для познания истории архитектуры и монументального искусства страны. Здесь сохранилось все пространство, его архитектурно-планировочное решение. Заходишь и окунаешься в аутентичную атмосферу.
Многое создавалось руками самого Леонида Менделевича: лестница, пол, развешены планшеты, эскизы, на стенах, расставлена коллекция колокольчиков. На большом рабочем столе мастера бумаги, папки, блокноты, книги, карандаши, ручки лежат так, как оставил их он сам. Для нас такая «нетронутость» свята. Тут хранятся проекты, уникальные макеты, эскизы.
Создать здесь мемориальную мастерскую и сохранить это достояние нации важно. Невозможно что-то отдать в один музей, а что-то — в другой. Важна цельность коллекции — наследие архитектора Левина и его времени, творческих людей, которые тут творили. Да и в целом тема творческих мастерских, которые создавались после перестройки при Белорусском Союзе архитекторов, интересная. Уверена, в будущем эта эпоха будет изучаться, ведь Леонид Левин и его коллеги-современники были первооткрывателями.
Мы недооцениваем значимость влияния персональных творческих мастерских на развитие белорусской архитектуры. А ведь именно тогда впервые современные архитекторы после долгого довоенного времени стали отвечать своим именем и репутацией за то, что они делают. Мы открыты для всех, кому интересна судьба и творческая жизнь архитектора.
— В работах Леонида Менделевича и ваших всегда заложено много идей. Каждая деталь символична и важна. Нет опасения того, что люди, не связанные с архитектурой, монументальным искусством, не понимают их?
— Я не думаю, что это является какой-то целью и препятствием в работе. В монументальном искусстве важен посыл создателя. Согласитесь, делать памятники для того, чтобы делать памятники — это, может, и возможно… Но этим могут заниматься и другие люди. У архитекторов несколько иной подход к работе над мемориалами и даже мемориальными досками.
Для автора любая мемориальная тема это, прежде всего, изучение. Осознала я это еще в тот период, когда отец работал над «Прорывом» в г. п. Ушачи. Он меня, школьницу, всегда брал с собой на объект, я увидела, что поиск смысла основывается на колоссальной работе: встреча со свидетелями событий, ветеранами, обсуждение идей, поиск информации. Для меня такой подход тоже стал частью профессии.
Памятники чрезвычайно важны. Они не сиюминутные творения, созданные под влиянием момента, а выстраданные, пережитые, сделанные, безусловно, с поддержкой на государственном уровне, местных инициатив.
Работа над монументами сложная. Ты проходишь через много испытаний, в том числе и психологических. Нужно погрузиться в тему (война, Холокост, геноцид, детские концлагеря, судьба женщин на войне и др.), и не по школьным учебникам, а провести серьезную исследовательскую работу, чтобы найти решение, за которое не было бы стыдно. И часто вскрываются жуткие факты исторической действительности.
Конечно, для нас, архитекторов, когда творчески осмысленные переживания принимаются заказчиком без корректировок, счастье. В обратном случае, когда урезают технические моменты, тем самым сводя на нет важные эмоциональные вещи, хоть и стараешься не подавать виду, но всегда внутренне болезненно переживаешь...
В целом, интересно, когда люди по-своему начинают прочитывать авторскую идею. В этом же смысл и значение
искусства.
— Волнующий момент — прохождение государственной экспертизы, поскольку на данной стадии тоже могут «вырезаться» смысловые моменты...
— Это же не экспертиза чувств, а экспертиза технических решений, которая следит за соблюдением действующих строительных норм. Мы благодарны экспертам, которые понимают смыслы, заложенные в проектах, и с глубочайшим уважением находят баланс между техническими решениями и эмоциональной вариабельностью.
К примеру, нашу идею в проекте Площади Парадокса в Тростенце поддержали. Площадь вымощена красной фактурной брусчаткой, что подразумевает осознанное неспокойное хождение по этой зоне. Там не может быть плитки, ровного шага. Шаг должен быть безопасным, но не гуляющим, как по парку. Невозможно объяснить, почему в голову приходят именно такие детали, — мы чувствуем так, кто-то чувствует иначе.
Но чему я училась от отца и что кажется мне очень важным в монументальном искусстве — опережать время и остаться во времени, как это было с Хатынью.
Архитектор должен быть неповторимым, искать новые формы даже рассказывая о военных событиях. Тогда, создавая Хатынь, авторы проекта сделали много открытий, одним из которых стала фактура обожженного дерева в бетоне. Сколько бы ни создавали памятников сожженным деревням, а Хатынь неповторима — именно это слово употребляли эксперты, выдвигая авторов комплекса на Ленинскую премию. Думаю, это вызов для современных архитекторов и художников — поиск нового языка пластики в рассказах о войне.
Но на новом объекте, повторюсь, наша мастерская никогда не будет применять фактуру обожженного дерева в бетоне — ведь это уже было использовано — и нужно искать другие творческие приемы, детали, которые передадут твой замысел. Создавая сегодня мемориальные комплексы, современникам нужно понимать, что нынешнее время отличается от периода создания Хатыни.
Тема войны до конца не исследована, историки открывают новые факты. Это по-прежнему большая площадка для высокого творчества, глубокого осмысления. Важно поддерживать инициативы, которые есть в малых городах, и рассказывать больше о военных историях на местах. Речь идет не о формальной мемориализации, а о сопереживании.
Памяти не бывает много или мало. Будущим поколениям мы должны оставить качество памяти в отношении глубины мысли и посыла. Конечно, нужно думать и о качестве строительных материалов, заложенных в проект. Не допускать, чтобы все заржавело через 10 лет.
— Двери вашей мастерской всегда открыты для журналистов. Однако такого обычая придерживаются не все архитекторы. На ваш взгляд, важно ли создателям быть доступными для СМИ и говорить о своих работах?
— Это решение каждого. Во-первых, через публикации в СМИ есть возможность доносить идеи, заложенные в проект. Во-вторых, наше творчество становится частью публичного пространства, что важно при эксплуатации объектов. Порой этот процесс для автора болезненный. Не всегда мы видим добросовестное отношение к авторским объектам монументального искусства. К примеру, вопросы покраски бронзовых скульптур краской, которая не соответствует оригинальному цвету и фактуре. Ошибки подрядчиков сплошь и рядом. Тот, кто принимает такое решение, должен понимать, что перед ним авторские работы, выполненные мастерами белорусской архитектуры и скульптуры! Зачастую под необдуманные решения попадают историко-культурные ценности. Да и вопросы защиты авторского права у нас как-то расплывчато звучат. Конечно, мы стараемся разговаривать с местными органами власти. Благодаря СМИ это возможность обратить внимание на проблему. И, несмотря на то что у нас есть система тендеров, конкурсов, все-таки работы реконструкции объекта следует отдавать архитекторам, которые создавали его. Автору важно не бросать объект.
— Чем сейчас живет мастерская?
— Я, безусловно, слежу за судьбой работ отца, поддерживаю отношения с дирекциями объектов. В малых и больших городах республики подготовили более 16 выставок, посвященных творчеству Леонида Левина.
Мастерская занимается проектированием, монументальным искусством, сосредоточена на популяризации творчества Леонида Левина среди подрастающего поколения. Поддерживаем контакты со столичными школами и всегда с большим удовольствием принимаем приглашения выступить пред школьной аудиторией. Поддерживаем инициативы педагогов, которые занимаются научными работами по монументальному искусству. Сейчас заняты проектом реконструкции дома на Сухой, 25, где находится Историческая мастерская. Также занимаемся реконструкцией памятника на месте массового убийства евреев-узников гетто Дзержинска совместно со скульптором А. Шаппо.
Ищем новый неповторимый язык выразительности. Не забываем и о Тростенце. Для меня важно сделать этот памятник. Может возникнуть вопрос, что я мало говорю о своих работах, но на мне лежит ответственность за сохранение творческого наследия и памяти отца. Эта первоочередная
задача.
— Тростенец — это творческое завещание отца? Вы всегда с радостью рассказываете о работе над мемориальным комплексом. Не все детали удалось воплотить, когда открывалась вторая очередь комплекса. Какие вещи хотелось бы еще досказать?
— Тростенец был делом его жизни. Да, проект «Последний путь» в Благовщине, который я вела после его ухода как главный архитектор, был реализован не в полном объеме, задуманном творческой группой под руководством архитектора Леонида Левина (архитекторы Галина Левина, Александр Копылов, скульпторы Максим Петруль, Константин Селиханов, Александр Шаппо). На тот момент не удалось изготовить ряд задуманных скульптур, три из которых, впрочем, после открытия прошли монументально-художественный совет и получили разрешение: это оставленные чемоданы, опрокинутый дом и опрокинутое дерево.
Вопрос в отсутствии финансирования на текущий момент. Но, как мы считаем, все-таки важно установить такие знаки, как опрокинутая менора (древний символ иудаизма) и других конфессий для того, чтобы следующее поколение понимало масштабы Холокоста, трагедии войны для всего человечества, независимо от национальности и вероисповедания. Поэтому работа в этом направлении будет продолжаться.
— Тема войны стала для вашего отца и вас своего рода профессиональным маршрутом. Наверное, не ошибусь, полагая, что увековечение военной памяти — не только профессия, но и личные переживания…
— Отец был жизнерадостным человеком, но боль военного прошлого была острой. У папы военная история отличается от всех остальных. Трагизм в его работах — немой свидетель уничтоженной радости довоенной жизни. Самое дорогое, что было в их доме —
безграничная любовь. Об этом свидетельствует сохранившаяся перепис-
ка бабушки и дедушки. Во время войны Леонид Менделевич жил с мамой и сестрой в эвакуации в Киргизии. Отец ушел на фронт, мама умерла в той эвакуации от голода. Она работала, но еда доставалась только детям —
чтобы они выжили. Когда по–настоящему осознаешь такое... Папа всегда это помнил... Но говорить на эту тему не любил.
Память сохранялась в его работах и творчестве. Он подготовил и издал книгу с письмами своего отца — «Война и любовь». Там есть рассказ, как дедушка приехал в послевоенный Минск, как шел по городу к дому, где до войны жила семья, чтобы посмотреть на вишни возле него... и обнять их в память об умершей жене. Многие думают — ну, это было военное время... Воевали, защищали, а после сто грамм, крепкое слово... И все. Выработалось какое–то клише.
Но все люди разные. Отец понимал это и избегал стереотипов, чему учил и меня. Книгу он завершает строками: «Война забирала дорогих мне людей. Ребенком я это не очень осознавал. Никто не заменит мне утраченного. Никто не возместит то, что забрала война. Война не смогла забрать только Любовь».
Его творчество не про смерть, а про жизнь, про ее хрупкость. Леонид Левин хорошо знал сложные судьбы людей, прошедших эту кровавую бойню, пропуская их через свое сердце. Он не просто реконструирует эпоху, а дает нам возможность узнать правду того времени. Все его памятники стоят именно там, где происходили события. Они неформальны по исполнению, поэтому рождают у людей простые и понятные чувства, становятся частью их жизни. Нацисты не только убивали, но и уничтожали память о своих жертвах. Левин возвращал память.
— Галина Леонидовна, какие вопросы вы бы задали сегодня отцу?
— Самое удивительное, но у меня нет ощущения того, что я не получила ответы на какие-то вопросы. Может быть, потому что мы всегда были рядом. Духовно близки. Внутренний диалог у меня с ним всегда присутствует. Другое дело, когда разбираешь архивы, планшеты, хочется уточнить какие-то нюансы. Возможно, хотелось бы с ним посоветоваться. Но это не говорит о некой зависимости или невозможности принять решение самостоятельно, а больше поговорить, обсудить…







.jpg)